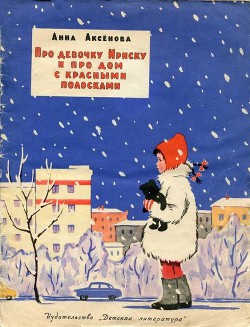было жалко маму, я понимала, что она расстроится, ведь на эти деньги можно было многое купить.
Мама у меня обладала необыкновенной способностью. Она никогда не ругала за то, что невозможно было вернуть или исправить. И, по-моему, даже не жалела, во всяком случае недолго жалела то, что невозвратимо.
Уже в эвакуации, когда мне исполнилось семнадцать, мама подарила мне, сняв со своей руки, колечко с камушком. Я его надела и не могла налюбоваться на игру камня. В тот же или на следующий день мы пошли жать овес. Колечко было мне велико, свободно вращалось на пальце, и мама не советовала надевать его, но я еще недостаточно нагляделась на него, налюбовалась и попросила разрешения не снимать. Мама не стала настаивать.
Овес весь переплелся с викой. Вика цеплялась за серп, за пальцы…
Про колечко я вспомнила, когда остановились на отдых. Его не было. Мы с мамой недолго поискали его, понимая всю бесполезность поисков, и мама сказала:
— Что ты видела сегодня во сне?
— Много-много расчесок, — сказала я.
— Значит, видеть расчески — к потере, — сказала мама.
Не суеверный человек, мама во время войны вдруг почему-то стала верить в приметы, гадания, поддалась поветрию. Кстати сказать, были в моей жизни потери, но перед этим не было мне предупреждений в виде расчесок…
И тот случай с деньгами. У мамы и без того было тяжелое настроение: заболевал брат, на поезда, идущие в сторону Ленинграда, нас не сажали (Ленинград был уже полностью блокирован, чего не знали мы), надвигалась зима, а у нас не было еще крыши над головой, теплой одежды. К счастью, как я писала вначале, из-за плохой погоды мы выехали из Ленинграда хоть и в легких, но все-таки пальто. Мама секунду-другую помолчала, переживая потерю, и сказала:
— Ладно. У других и вообще ничего нет. А ты не будь рохлей. Кругом люди были, не в лесу. Не могла, что ли, крикнуть?
Я и сама уже понимала, что надо было крикнуть…
Такая была мама. А вот за пустяк, грубое слово она могла пребольно ударить тем, что у нее было в руке. И вообще была довольно суровой матерью. Это уже в дороге, особенно потом, в эвакуации, она стала со мной советоваться, вовлекать, так сказать, во взрослую жизнь, и именно в это время я и стала взрослеть.
Когда стало ясно, что в Ленинград нам не попасть, мама решила, что надо устраиваться если и не поблизости от Ленинграда, то хотя бы на прямой дороге к нему. Чтоб в любой момент, не путаясь, устремиться туда.
Мы сели в поезд, идущий к Кирову, и поехали. Мама разговаривала с людьми в поезде, на встречных станциях, с нашей проводницей. Последняя-то и посоветовала маме остановить свой выбор на Свече. Все-таки в сельской местности прокормиться легче, кроме того, раз станция немалая, в поселке должна быть десятилетка. Да и то, что здесь останавливаются все поезда, казалось маме тогда важным обстоятельством.
Короче, сколько можно ездить? Уже начался учебный год, а у нас не было даже учебников.
Мы сошли с поезда на станции Свеча в сентябре сорок первого. А уехали с нее в августе сорок четвертого. Без малого три года…
В пристанционном поселке оказалось все забито эвакуированными. Там была — и, кажется, — не одна — ленинградская школа, было несколько госпиталей, были просто эвакуированные семьи, в основном ленинградские.
Для нас места в поселке не было.
Я стояла на крыльце метеорологической станции, прячась от дождя. Мама зашла туда, как она заходила и в госпиталь, и в другие учреждения, узнать насчет работы и насчет жилья. Под крышей дома была прибита дощечка с надписью «ведро». Я стояла и думала, какие здесь работают прекрасные угадыватели погоды, не то что у нас в Ленинграде: вот написано «ведро», то есть «вёдро», и в самом деле идет дождь. Я была уверена, что вёдро потому и называется вёдро, что означает очень сильный дождь, дождь как из ведра.
(Потом уже, когда мы ехали со станции в село, с нами ехала пожилая пара. Она — билетерша театра имени Кирова, он — музыкант оркестра в том же театре. В деревнях мы увидели такие же дощечки на всех домах, только написано на них было разное.
— Серж, — сказала Клавдия Николаевна, — посмотри, какие оригинальные фамилии: Багор, Топор, Ведро, Веревка.
Наш возница, пожилой мужчина, фыркнул:
— Фамилии! Скажут. То ж на случай пожара, кому что тащить. У вас, что ли, нет такого?
— У нас нет, — сказала пристыженно Клавдия Николаевна.
— Надо же, — покрутил головой возница, — неразбериха, поди, когда пожар. Или у вас пожаров не бывает? — упрекнул он ленинградцев в беспечности.)
Итак, на станции Свеча для нас не нашлось места. Да и школы были переполнены. И маме посоветовали поехать в село Круглыжи, за тридцать с лишним километров, потому, что там тоже есть десятилетка. И там, в Круглыжах, сказали нам, меньше эвакуированных — всего одна ленинградская школа да несколько семей, можно будет легко устроиться.
И мы поехали в Круглыжи. На площади у станции стояли подводы, привезшие призывников, приехавшие за почтой или еще по какому делу. Нашли круглыжского возницу, прихватили на вокзале Клавдию Николаевну с ее мужем (они уже с неделю жили здесь в надежде найти себе пристанище), сложили вещички на подводу, посадили Колю и пошагали…
Дорога была длинной и нудной. Я очень устала, хотя возница давал нам по очереди проехать в телеге.
Уже под вечер мы наконец прибыли в село.
В сельсовете долго вздыхали, прикидывали, куда нас поместить, и наконец решили:
— К Фочихе — больше некуда.
Девушка, сидевшая за столом над бумагами, покачала головой. Понятно было, что ей это не нравится.
Какой-то мужчина из сельсовета повел нас недалеко, в дом с четырьмя крылечками и четырьмя трубами, значит, с четырьмя хозяевами.
Фочиха, еще не старая старуха, стала громко кричать, ругаться, но мужчина, не слушая ее, провел нас в комнату, отделенную от остального помещения фанерной перегородкой, стукнул ладонью по кровати и сказал:
— Вот здесь и располагайтесь.
Он ушел, а Фочиха стала кричать на маму. Мама вежливо отвечала ей, что мы только переночуем, а утром пойдем искать себе другую квартиру, пусть она не беспокоится. Спросила ее имя-отчество, на что Фочиха фыркнула и, посверкивая глазами, скрылась. Ее не было видно, но слышно было, как она в гневе громыхает чугунками, толкает что-то — табуреты или стол.
Мы легли. Фочиха укачивала за перегородкой ребенка в подвешенной к потолку люльке.
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)